Я не его адвокат и не его психиатр. Не верить статье пока оснований нет.
Из книжки Л. Штерн "Поэт без пьедестала":
Спойлер
В одном из первых своих «западных» интервью Майклу Скаммелю на вопрос: «Как на вашу работу повлияли суд и заключение?» – Бродский сказал: «Вы знаете, я думаю, это даже пошло мне на пользу, потому что те два года, которые я провел в деревне, – самое лучшее, по-моему, время моей жизни. Я работал тогда больше, чем когда бы то ни было. Днем мне приходилось выполнять физическую работу, но поскольку это был труд в сельском хозяйстве, а не работа на заводе, существовало много периодов отдыха, когда делать нам было нечего».
Эта оценка норенской жизни Бродского странным образом совпадает с мнением А. И. Солженицына о пользе ссылки для нашего поэта.
И хотя в личных разговорах мне никогда не приходилось слышать от Иосифа, что в Норенской он был счастлив, у нас нет оснований сомневаться в искренности его слов.
А теперь перенесемся на двадцать лет вперед, в 1982-й.
После получения премии для гениев Макартура Иосифа интервьюировал по телевизору нью-йоркский журналист Дик Кавет. Кавет просил Иосифа рассказать о его пребывании в тюремной психиатрической больнице и о преступных методах советской психиатрии.
Мы с Витей слушали ответы Бродского и не могли поверить своим ушам. (К сожалению, не сообразила записать с экрана на магнитофон это интервью и поэтому слова Бродского, хоть и взяты в кавычки, не являются точной цитатой, но выражают очень близкий смысл.)
Ничего страшного в советских психушках нет, во всяком случае в той, где я сидел, – благодушно рассказывал Бродский, сидя в глубоком кресле, нога за ногу, сигарета между пальцев. – Кормили прилично, с тюрьмой не сравнить. Можно было и книжки читать, и радио слушать. Народ кругом интересный, особенно психи... Но были и вполне нормальные, вроде меня. Одно плохо – не знаешь своего срока. В тюрьме известно, сколько тебе сидеть, а тут полная неопределенность...
Я позвонила ему в тот же вечер:
– Иосиф, мы очень расстроены твоим телевизионным интервью.
– А в чем дело?
– Весь Запад на ушах стоит, что в Союзе инакомыслящих в психушках держат. В университетах митинги протеста, всемирно известные врачи письма и обращения подписывают, а ты, живой свидетель, говоришь – «ничего страшного, кормят хорошо и народ интересный!...
Иосиф растерялся от моей агрессивности, но только на секунду. И сказал, что он описывал только свой опыт, что он свободный человек в свободной стране и имеет право говорить все что хочет. Я возражала, что как «частное лицо» он мог бы красоваться на экране и болтать что угодно, но теперь он стал public figure, его слушают сотни тысяч людей, и он должен думать, прежде чем... Иосиф не дослушал, бросил трубку и месяца на два наши контакты прервались...
По зрелом размышлении я могла бы догадаться, чем был вызван этот его гаерский тон. Бродский категорически не желал ни быть, ни казаться жертвой. Ему была невыносима сама мысль, что травля, суды, психушки, ссылка – именно эти гонения на родине способствовали его взлету на недосягаемые вершины мировой славы. И вот еще одно доказательство.
Как-то раз, уже после «Нобеля», он обратился ко мне с просьбой сообщить в оргкомитет симпозиума (или конгресса), что он участвовать не будет. (Кажется, в Париже, но точно не помню.) Эта была странная просьба, хотя бы потому, что всеми делами и контактами Бродского занималась его секретарша Энн Шеллберг. Наш разговор был столь неожиданным, что я его записала.
– Людка, тебе нетрудно позвонить Н. Н. и сказать, что я на конгресс не приеду?
– А что случилось?
– Не хочу...
– Почему? Мне же надо это как-то объяснить.
– Объясняй как хочешь.
– Но все-таки в чем дело?
– Сама подумай, могу я приехать, если там будет Эткинд?
–???
Я понятия не имела ни о каких конфликтах между ним и Ефимом Григорьевичем и разразилась «защитительной» речью: «Что с тобой? Он тебя защищал! Он рисковал! Он! Он! Он!»
– Так ты можешь позвонить или нет?
– Позвоню, раз ты просишь, но что Ефим Григорьевич тебе сделал?
– Нечего на говне сметану собирать.
...Разговор этот произошел вскоре после выхода в свет книжки Эткинда «Процесс Иосифа Бродского».
Не знаю, подлинная ли это причина или просто повод. Но знаю, что Бродский раздражался и вспыхивал, когда его спрашивали о процессе. Я была свидетелем, как в одном доме Иосиф нагрубил очень достойному господину, который выразил ему сочувствие по поводу «пережитых невзгод».
...Впрочем, вероятно, наш упрек после его интервью с Диком Каветом ему запомнился. В книжке Эткинда «Процесс Иосифа Бродского», опубликованной в 1988 году, упоминается об одном интервью, которое Бродский дал корреспонденту журнала «Нувель Обсерватер» в 1987 году. На вопрос журналиста, какой момент во время его судебной эпопеи был самым тяжелым, Иосиф сказал:
Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница... Мне делали страшные уколы... Будили среди ночи, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу...
Это интервью было дано после получения Нобелевской премии, когда Бродский уже полностью осознал, какую ответственность за свои слова он несет во время публичных выступлений.
Из книги Ф. Раззакова "Высоцкий. Козырь в тайной войне":
Спойлер
В либеральной историографии до сих пор принято изображать этого поэта как невинную жертву советского режима. Дескать, жил себе в Ленинграде молодой и талантливый человек, писал хорошие стихи, а треклятые коммунисты отправили его в ссылку на 5 лет за то, что он тунеядец — то есть нигде фактически не работал. В реальности все было иначе, а все эти разговоры о несправедливости наказания от лукавого — на самом деле Бродского должны были осудить по статье «за терроризм» и отправить не в ссылку, а упрятать за решетку лет так на десять. Но пожалели парня по просьбе его родителей. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.
Бродский был активным лоботрясом еще в школе: он сменил их целых пять, поскольку отовсюду его выгоняли за неуспеваемость. В итоге в седьмом классе он нахватал четыре годовых двойки — по физике, химии, математике и английскому — и вынужден был остаться на второй год. Однако, проучившись всего три месяца, он попросту бросил школу и ушел работать учеником фрезеровщика. Однако профессию эту толком так и не освоил и ушел работать санитаром… в морг. Потом сменил еще несколько работ: устроился истопником в котельной, завербовался в геологоразведочную экспедицию. Но в итоге ни к какой профессии так и не прибился и с начала 60-х попросту тунеядствовал.
Отметим, что родители Бродского с болью наблюдали за художествами сына, поскольку были законопослушными советскими гражданами: отец долгое время работал военным фотокорреспондентом, а мать служила не где-нибудь, а в бухгалтерии ленинградского КГБ! Однако повлиять на отпрыска они особенно не могли — он был себе на уме. Хотя такие попытки неоднократно предпринимались. А одна из них лишь усугубила ситуацию. Когда Бродский внезапно всерьез увлекся поэзией, отец, чтобы отвратить его от этого занятия (видимо, зная характер сына, родитель боялся, что он скатится в банальную антисоветчину, чем навсегда испортит жизнь и себе и своим родственникам), решил искать помощи у Анны Ахматовой, которую знал. Отец решил, что та отговорит Иосифа от увлечения поэзией. Но вышло все наоборот: Ахматовой стихи Бродского понравились, и она взяла его под свое крыло — включила в группу молодых поэтов, которых обучала премудростям поэтической профессии.
Между тем, как и предполагал отец поэта, поэтическая стезя привела его к трениям с властью. В первый раз Бродский угодил в поле зрения ее компетентных органов, когда принял участие в издании первого диссидентского самиздатовского журнала «Синтаксис» (о нем речь уже шла выше: его организатор Александр Гинзбург был осужден в 1960 году на 2 года тюремного заключения). Бродскому тогда повезло — его только предупредили. Но он не успокоился и в итоге задумал… Впрочем, послушаем рассказ одного из его тогдашних знакомых — живописца и поэта В. Евсеева:
«Не знаю почему, но Бродскому в голову пришла идея угнать самолет и сбежать на нем за кордон. У Александра Уманского (друг Бродского) был приятель — Олег Шахматов. Бывший военный летчик, выгнанный из армии не то за пьянку, не то за приставание к командирским женам. И вот как-то, находясь в гостях у этого Шахматова в Самарканде и наслушавшись его жалоб на судьбу, Бродский вдруг предложил захватить на местном аэродроме маленький однопилотный самолет и улететь на нем в Афганистан. Тут же были продуманы все детали предстоящего дела.
План был таков: они вдвоем покупали все четыре места на один из рейсов. Шахматов садился рядом с пилотом. Бродский занимал место сзади. После взлета Ося должен был ударить летчика камнем по голове, связать его, после чего Шахматов брал штурвал в свои руки и на малой высоте вел самолет через границу. Но в последний момент, когда уже были куплены билеты и подобран подходящий по весу камень, Бродский вдруг передумал. Бить по голове человека было для него перебором.
Ося вернулся в Ленинград и очень скоро забыл эту историю. Но примерно через год его хватают и тащат в КГБ. Оказывается, что Шахматова где-то поймали с пистолетом и он, чтобы скостить себе срок, решил выдать чекистам антисоветский заговор. Шахматов подробно рассказал следователям о планах угона самолета… Иосифу тогда повезло: кроме показаний Шахматова, других свидетельств его причастности к заговору не оказалось. Свою роль сыграла и мать Бродского, которая в то время работала в бухгалтерии «Большого дома». Ход делу дан не был. Но досье на Бродского, стоявшее на полках КГБ, пухло с каждым годом. Рано или поздно это должно было кончиться судебным процессом…»
Тучи над головой Бродского начали сгущаться осенью 63-го. Тогда в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон Якова Лернера про тунеядца Бродского под названием «Литературный трутень». А в декабре Бродского арестовали. Как пишет биограф поэта Л. Штерн:
«Арест произошел следующим образом: как только Иосиф вышел из дому, к нему прицепились три хмыря, спросили, Бродский ли он, начали нести антисемитскую х. ню и передразнивать его картавость. Иосиф кому-то из них врезал. Тогда ему завернули руки и запихали в машину…»
Суд над Бродским начался 18 февраля 1964 года и длился несколько дней. Практически вся либеральная еврейская общественность была на стороне Бродского: либо тайно сочувствовала ему, либо активно защищала (писала разного рода ходатайства и письма). Ее пугала та эволюция, которую проделала советская власть за минувшие 40 лет. Осенью 1923 года советскую интеллигенцию потряс общественный процесс над Сергеем Есениным и тремя его коллегами, которые обвинялись в антисемитизме (якобы они задели национальные чувства евреев, оскорбив одного из них в московской пивной). Обвиняемых вполне могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку с июля 1918 года в УК РСФСР действовала статья, карающая судебным преследованием за антисемитизм. Однако дело в отношении Есенина и его коллег завершилось общественным порицанием. В 64-м ситуация изменилась в противоположную сторону: теперь уже судили поэта-еврея и уже ему грозило уголовное наказание. И хотя и в этом случае его не последовало — суд отправил Бродского на лечение в психиатрическую клинику, поскольку его адвокат предъявила справку о психической болезни подсудимого, — однако еврейская общественность была обеспокоена самим прецедентом.
Позднее, когда в диссидентских кругах будет активно раскручиваться тема «об ужасах советской психиатрии», появятся рассказы о том, как мучили Бродского: мол, даже подвергали его изощренным пыткам. Но вот как сам поэт описал свое житье-бытье в «психушке», причем будучи не в «тоталитарном СССР», а в свободной Америке (на дворе был 1982 год, и Бродского интервьюировал для ТВ нью-йоркский журналист Дик Кавет):
«Ничего страшного в советских психушках нет, во всяком случае, в той, где я сидел. Кормили прилично, с тюрьмой не сравнить. Можно было и книжки читать, и радио слушать. Народ кругом интересный, особенно психи… Но были и вполне нормальные, вроде меня. Одно плохо — не знаешь своего срока. В тюрьме известно, сколько тебе сидеть, а тут полная неопределенность…»
Это интервью вызвало бурю протеста в диссидентских кругах: дескать, мы тут вовсю стараемся, описываем советскую психиатрию как преступную, а Бродский заявляет обратное! Когда поэту с подобными упреками позвонила уже известная нам Л. Штерн, он заявил: «Я описывал только свой опыт. Я свободный человек в свободной стране и имею право говорить все, что хочу». После чего бросил трубку и месяца два вообще не общался со Штерн. Однако потом они помирились, а чуть позже — буквально накануне присуждения ему Нобелевской премии (в 1987 году) — Бродский «запел» уже другую песню. Цитирую его интервью журналу «Нувель обсерватер»: «Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница… Мне делали страшные уколы… Будили среди ночи, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу…»
Вот и думай после этого, когда же поэт говорил правду: в 82-м или в 87-м, накануне своей «нобелевки»? Кстати, дали ее Бродскому по политическим мотивам в разгар горбачевской перестройки
От себя: в психушку Бродский в первый раз прилетел самостоятельно, скрываясь в Москве у приятелей, которые его туда и пристроили,от органов,желавших привлечь его за тунеядство (была такая статья в Союзе. Из Москвы он сбежал в Ленинград обратно с помощью приятелей, ибо бумажки то оформили в "психушке", на разборки со своей подругой Мариной Басмановой,которой и посвящено большинство (под тысячу!) т.н. стихов Бродского. В Ленинграде и был принят органами. По результам экспертизы (экспертизы, а не лечения карательного) был признан имеющим психическое расстройство, но трудоспособным. И отправлен на 5 лет в Архангельскую губернию на работу))) В итоге вышло,что на 1,5 года.
Уезжать из Союза вообще не хотел. Удивлялся.
Короче говоря: абсолютно сделанная и дутая фигура. Графоман, про которого Ахматова, нянчившаяся вот со всей этой поэтической братией говорила "...смотрите как нашему рыжему карьеру делают".
Ну, это так. Почитать-поразмыслить.






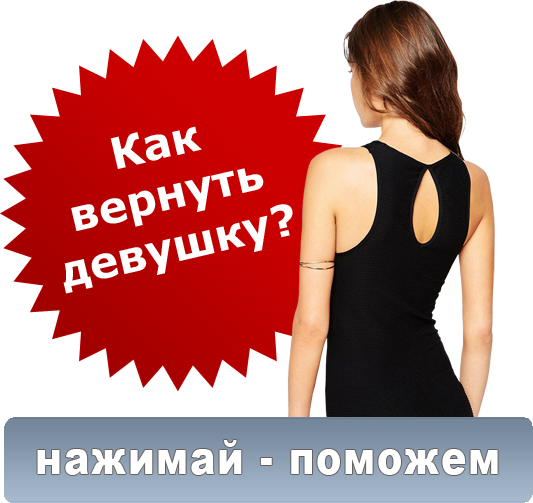





 Уважение в рублях
Уважение в рублях Уважение:
Уважение:  Лаэрафокс писал(а):
Лаэрафокс писал(а): Записан
Записан








